I
СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Я не собираюсь сказать в этом вводном отрывке что-либо новое и не могу избежать повторения того, что неоднократно высказывалось раньше.
Деление психики на сознательное и бессознательное является основной предпосылкой психоанализа, и только оно дает ему возможность понять и приобщить науке часто наблюдающиеся и очень важные патологические процессы в душевной жизни. Иначе говоря, психоанализ не может перенести сущность психического в сознание, но должен рассматривать сознание как качество психического, которое может присоединяться или не присоединяться к другим его качествам.
Если бы я мог рассчитывать, что эта книга будет прочтена всеми интересующимися психологией, то я был бы готов к тому, что уже на этом месте часть читателей остановится и не последует далее, ибо здесь первое применение психоанализа. Для большинства философски образованных людей идея психического, которое одновременно не было бы сознательным, до такой степени непонятна, что представляется им абсурдной и несовместимой с простой логикой. Это происходит, полагаю я, оттого, что они никогда не изучали относящихся сюда феноменов гипноза и сновидений, которые — не говоря уже о всей области патологического, — принуждают к пониманию в духе психоанализа. Однако их психология сознания никогда не способна разрешить проблемы сновидения и гипноза.
Быть сознательным — это прежде всего чисто описательный термин, который опирается на самое непосредственное и надежное восприятие. Опыт показывает нам далее, что психический элемент, например представление, обыкновенно не бывает длительно сознательным. Наоборот, характерным является то, что состояние сознательности быстро проходит; представление в данный момент сознательное, в следующее мгновение перестает быть таковым, однако может вновь стать сознательным при известных, легко достижимых условиях. Каким оно было в промежуточный период — мы не знаем; можно сказать, что оно было скрытым (latent), подразумевая под этим то, что оно в любой момент способно было стать сознательным. Если мы скажем, что оно было бессознательным, мы также дадим правильное описание. Это бессознательное в таком случае совпадает со скрыто или потенциально сознательным. Правда, философы возразили бы нам: нет, термин “бессознательное” не может иметь здесь применения; пока представление находилось в скрытом состоянии, оно вообще не было психическим. Но если бы уже в этом месте мы стали возражать им, то затеяли бы совершенно бесплодный спор о словах.
К термину или понятию бессознательного мы пришли другим путем, путем разработки опыта, в котором большую роль играет душевная динамика. Мы видели, т. е. вынуждены были признать, что существуют весьма напряженные душевные процессы или представления, — здесь прежде всего приходится иметь дело с некоторым количественным, т. е. экономическим, моментом — которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как и все другие представления, между прочим, и такие последствия, которые могут быть сознаны опять-таки как представления, хотя в действительности и не становятся сознательными. Нет необходимости подробно повторять то, о чем уже часто говорилось. Достаточно сказать: здесь начинается психоаналитическая теория, которая утверждает, что такие представления не становятся сознательными потому, что им противодействует известная сила, что без этого они могли бы стать сознательными, и тогда мы увидели бы, как мало они отличаются от остальных общепризнанных психических элементов. Эта теория оказывается неопровержимой благодаря тому, что в психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которых можно устранить противодействующую силу и довести соответствующие представления до сознания. Состояние, в котором они находились до осознания, мы называем вытеснением, а сила, приведшая к вытеснению и поддерживавшая его, ощущается нами во время нашей психоаналитической работы как сопротивление.
Понятие бессознательного мы, таким образом, получаем из учения о вытеснении. Вытесненное мы рассматриваем как типичный пример бессознательного. Мы видим, однако, что есть двоякое бессознательное: скрытое, но способное стать сознательным и вытесненное, которое само по себе и без дальнейшего не может стать сознательным. Наше знакомство с психической динамикой не может не оказать влияния на номенклатуру и описание. Скрытое бессознательное, являющееся таковым только в описательном, но не в динамическом смысле, называется нами предсознательным; термин “бессознательное” мы применяем только к вытесненному динамическому бессознательному; таким образом, мы имеем теперь три термина: “сознательное” (bw), “предсознательное” (vbw) и “бессознательное” (ubw), смысл которых уже не только чисто описательный. Предсознательное (vbw) предполагается нами стоящим гораздо ближе к сознательному (bw), чем бессознательное, а так как бессознательное (ubw) мы назвали психическим, мы тем более назовем так и скрытое предсознательное (vbw). Почему бы нам, однако, оставаясь в полном согласии с философами и сохраняя последовательность, не отделить от сознательно-психического как предсознательное, так и бессознательное? Философы предложили бы нам тогда рассматривать и предсознательное и бессознательное как два рода или две ступени психоидного, и единение было бы достигнуто. Однако результатом этого были бы бесконечные трудности для изложения, а единственно значительный факт, что психоиды эти почти во всем остальном совпадают с признанно психическим, был бы оттеснен на задний план из-за предубеждения, возникшего еще в то время, когда не знали этих психоидов или самого существенного в них.
Таким образом, мы с большим удобством можем обходиться нашими тремя терминами: bw, vbw и ubw, если только не станем упускать из виду, что в описательном смысле существует двоякое бессознательное, в динамическом же только одно. В некоторых случаях, когда изложение преследует особые цели, этим различием можно пренебречь, в других же случаях оно, конечно, совершенно необходимо. Вообще же мы достаточно привыкли к двойственному смыслу бессознательного и хорошо с ним справлялись. Избежать этой двойственности, поскольку я могу судить, невозможно; различие между сознательным и бессознательным есть в конечном счете вопрос восприятия, на который приходится отвечать или да или нет, самый же акт восприятия не дает никаких указаний на то, почему что-либо воспринимается или не воспринимается. Мы не вправе жаловаться на то, что динамическое в явлении может быть выражено только двусмысленно [Сравн.: “Замечания о понятии бессознательного” (Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre”, 4 Folge). Новейшее направление в критике бессознательного заслуживает быть здесь рассмотренным. Некоторые исследователи, не отказывающиеся от признания психоаналитических фактов, но не желающие признать бессознательное, находят выход из положения с помощью никем не оспариваемого факта, что и сознание как феномен дает возможность различать целый ряд оттенков интенсивности или ясности. Наряду с процессами, которые сознаются весьма живо, ярко и осязательно, нами переживаются также и другие состояния, которые лишь едва заметно отражаются в сознании, и наиболее слабо сознаваемые якобы суть те, которые психоанализ хочет обозначить неподходящим термином “бессознательное”. Они-де в сущности тоже сознательны или “находятся в сознании” и могут стать вполне и ярко сознательными, если только привлечь к ним достаточно внимания.
Поскольку мы можем содействовать рассудочными аргументами разрешению вопроса, зависящего от соглашения или эмоциональных моментов, по поводу приведенных возражений можно заметить следующее: указание на ряд степеней сознания не содержит в себе ничего обязательного и имеет не больше доказательной силы, чем аналогичные положения: существует множество градаций освещения, начиная от самого яркого, ослепительного света и кончая слабым мерцанием, следовательно, не существует никакой темноты. Или: существуют различные степени жизненности, следовательно, не существует смерти. Эти положения в известном отношении могут быть и содержательными, но практически они непригодны, как это тотчас обнаружится, если мы пожелаем сделать из них соответствующие выводы, например: следовательно, не нужно зажигать света, или: следовательно, все организмы бессмертны. Кроме того, вследствие такого незаметного подведения под понятие “сознательного” утрачивается единственная непосредственная достоверность, которая вообще существует в области психического. Сознание, о котором ничего не знаешь, кажется мне гораздо более абсурдным, чем бессознательное душевное. И наконец, такое приравнивание незаметного бессознательному пытались осуществить, явным образом недостаточно считаясь с динамическими отношениями, которые для психоаналитического понимания играли руководящую роль. Ибо два факта упускаются при этом из виду: во-первых, очень трудно и требует большого напряжения уделить достаточно внимания такому незаметному; во-вторых, если даже это и удается, то прежде бывшее незаметным не познается теперь сознанием, наоборот, часто представляется ему совершенно чуждым, враждебным и резко им отвергается. Возвращение от бессознательного к малозаметному и незаметному есть, таким образом, все-таки только следствие предубеждения, для которого тождество психического и сознательного раз навсегда установлено].
В дальнейшем развитии психоаналитической работы выясняется, однако, что и эти различия оказываются неисчерпывающими, практически недостаточными. Из числа положений, служащих тому доказательством, приведем решающее. Мы создали себе представление о связной организации душевных процессов в одной личности и обозначаем его как Я этой личности. Это Я связано с сознанием, что оно господствует над побуждениями к движению, т. е. к вынесению возбуждений во внешний мир. Это та душевная инстанция, которая контролирует все частные процессы (Partial-vorgange), которая ночью отходит ко сну и все же руководит цензурой сновидений. Из этого Я исходит также вытеснение, благодаря которому известные душевные побуждения подлежат исключению не только из сознания, но также из других областей значимости и деятельности. Это устраненное путем вытеснения в анализе противопоставляет себя Я, и анализ стоит перед задачей устранить сопротивление, производимое Я по отношению к общению с вытесненным. Во время анализа мы наблюдаем, как больной, если ему ставятся известные задачи, попадает в затруднительное положение; его ассоциации прекращаются, как только они должны приблизиться к вытесненному. Тогда мы говорим ему, что он находится во власти сопротивления, но сам он ничего о нем не знает, и даже в том случае, когда, на основании чувства неудовольствия, он должен догадываться, что в нем действует какое-то сопротивление, он все же не умеет ни назвать, ни указать его. Но так как сопротивление, несомненно, исходит из его Я и принадлежит последнему, то мы оказываемся в неожиданном положении. Мы нашли в самом Я нечто такое, что тоже бессознательно и проявляется подобно вытесненному, т. е. оказывает сильное действие, не переходя в сознание и для осознания чего требуется особая работа. Следствием такого наблюдения для аналитической практики является то, что мы попадаем в бесконечное множество затруднений и неясностей, если только хотим придерживаться привычных способов выражения, например, если хотим свести явление невроза к конфликту между сознанием и бессознательным. Исходя из нашей теории структурных отношений душевной жизни, мы должны такое противопоставление заменить другим, а именно цельному Я противопоставить отколовшееся от него вытесненное [Сравн.: Jenseits des Lustprincips].
Однако следствия из нашего понимания бессознательного еще более значительны. Знакомство с динамикой внесло первую поправку, структурная теория вносит вторую. Мы приходим к выводу, что ubw не совпадает с вытесненным; остается верным, что| все вытесненное бессознательно, но не все бессознательное есть вытесненное. Даже часть Я (один бог ведает, насколько важная часть Я может быть бессознательной), без всякого сомнения, бессознательна. И это бессознательное в Я не есть скрытое в смысле предсознательного, иначе его нельзя было бы сделать активным без осознания и само осознание не представляло бы. столько трудностей. Когда мы, таким образом, стоим перед необходимостью признания третьего, не вытесненного ubw, то нам приходится признать, что характер бессознательного теряет для нас свое значение. Он обращается в многосмысленное качество, не позволяющее широких и непререкаемых выводов, для которых нам хотелось бы его использовать. Тем не менее нужно остерегаться пренебрегать им, так как в конце концов свойство бессознательности или сознательности является единственным светочем во тьме психологии глубин.
II
Я И ОНО
Патологические изыскания отвлекли наш интерес исключительно в сторону вытесненного. После того как нам стало известно, что и Я в собственном смысле слова может быть бессознательным, нам хотелось бы больше узнать о Я. Руководящей нитью в наших исследованиях служил только признак сознательности или бессознательности; под конец мы убедились, сколь многозначным может быть этот признак.
Все наше знание постоянно связано с сознанием. Даже бессознательное мы можем узнать только путем превращения его в сознательное. Но каким же образом это возможно? Что значит: сделать нечто сознательным? Как это может произойти?
Мы уже знаем, откуда нам следует исходить. Мы сказали, что сознание представляет собой поверхностный слой душевного аппарата, т. е. мы сделали его функцией некоей системы, которая пространственно является первой со стороны внешнего мира. Пространственно, впрочем, не только в смысле функции, но на этот раз и в смысле анатомического расчленения [Jenseits des Lustrincips]. Наше исследование также должно исходить от этой воспринимающей поверхности.
Само собой разумеется, что сознательны все восприятия, приходящие извне (чувственные восприятия), а также изнутри, которые мы называем ощущениями и чувствами. Как, однако, обстоит дело с теми внутренними процессами, которые мы — несколько грубо и недостаточно — можем назвать процессами мышления? Доходят ли эти процессы, совершающиеся где-то внутри аппарата, как движения душевной энергии на пути к действию, доходят ли они до поверхности, на которой возникает сознание? Или, наоборот, сознание доходит до них? Мы замечаем, что здесь кроется одна из трудностей, встающих перед нами, если мы хотим всерьез оперировать с пространственным, топическим представлением душевной жизни. Обе возможности одинаково немыслимы, и нам следует искать третьей.
В другом месте [Das Unbewusste Internationale Zeitschrift fiir Psychoanalyse, III, 1905 ( а также: Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 4 Folge, 1918).] я уже указывал, что действительное различие между бессознательным и предсознательным представлением (мыслью) заключается в том, что первое совершается при помощи материала, остающегося неизвестным (непознанным), в то время как второе (vbw) связывается с представлениями слов. Здесь впервые сделана попытка дать для системы vbw и ubw такие признаки, которые существенно отличны от признака отношения их к сознанию. Вопрос: “Каким образом что-либо становится сознательным?” — целесообразнее было бы облечь в такую форму: “Каким образом что-нибудь становится предсознательным?” Тогда ответ гласил бы так: “Посредством соединения с соответствующими словесными представлениями”.
Эти словесные представления суть следы воспоминаний; они были когда-то восприятиями и могут, подобно всем остальным следам воспоминаний, стать снова сознательными. Прежде чем мы успеем углубиться в обсуждение их природы, нас осеняет новая мысль: сознательным может стать лишь то, что некогда уже| было сознательным восприятием; за исключением чувств, все, что хочет стать внутренне сознательным, должно пытаться перейти во внешнее восприятие. Последнее возможно благодаря следам воспоминаний.
Следы воспоминаний мы мыслим пребывающими в системах, которые непосредственно примыкают к системе воспринимаемого сознательно, так что их содержание легко может быть перенесено изнутри на элементы этой системы. Здесь тотчас же приходят на ум галлюцинации и тот факт, что самое живое воспоминание все еще отличается как от галлюцинаций, так и от внешнего восприятия, однако не менее быстро мы находим выход в том, что при возникновении какого-либо воспоминания его содержание остается заключенным в системе воспоминания, в то время как неотличимая от восприятия галлюцинация может возникнуть и в том случае, если ее содержание не только переносится от следов воспоминаний к элементу восприятия, но всецело переходит в последний. ,
Остатки слов происходят главным образом от слуховых восприятии, благодаря чему для системы vbw дано как бы особое чувственное происхождение. Зрительные элементы словесного представления можно как второстепенные, приобретенные посредством чтения, оставить пока в стороне, так же как и двигательные образы слова, которые, если исключить глухонемых, имеют значение вспомогательных знаков. Слово в конечном итоге есть все же остаток воспоминания услышанного слова.
Однако нам не следует, ради упрощения, забывать о значении зрительных следов воспоминания - не слов, а предметов - или отрицать возможность осознания процессов мысли путем возвращения к зрительным следам, что, по-видимому, является преобладающей формой у многих. О своеобразии такого зрительного мышления мы можем получить представление, изучая сновидения; и предсознательные фантазии по наблюдениям Varendonck'a. Выявляется, что при этом сознается преимущественно конкретный материал мысли, что же касается отношений, особенно характеризующих мысль, то для них зрительное выражение не может быть дано. Мышление при помощи зрительных образов является, следовательно, лишь очень несовершенным процессом сознания.
Этот вид мышления, в известном смысле, стоит ближе к бессознательным процессам, нежели мышление при помощи слов, и как онто-, так и филогенетически, бесспорно, древнее его.
Возвращаясь к нашему аргументу, мы можем сказать: если таков именно путь превращения чего-либо бессознательного в предсознательное, то на вопрос: “Каким образом мы делаем вытесненное предсознательным?” — следует ответить: “Создавая при помощи аналитической работы упомянутые предсознательные посредствующие звенья”. Сознание остается на своем месте, но „ бессознательное не поднимается до степени сознательного.
В то время как отношение внешнего восприятия к Я совершенно очевидно, отношение внутреннего восприятия к Я требует особого исследования. Отсюда еще раз возникает сомнение в правильности допущения, что все сознательное связано с поверхностной системой воспринятого сознательного (W—Bw).
Внутреннее восприятие дает ощущения процессов, происходящих в различных, несомненно также глубочайших слоях душевного аппарата. Они мало известны, и лучшим их образцом может служить ряд удовольствие—неудовольствие. Они первичнее, элементарнее, чем ощущения, возникающие извне, и могут появляться в состояниях смутного сознания. О большом экономическом значении их и метапсихологическом обосновании этого значения я говорил в другом месте. Эти ощущения локализованы в различных местах, как и внешние восприятия, они могут притекать с разных сторон одновременно и иметь при этом различные, даже противоположные, качества.
Ощущения, сопровождающиеся чувством удовольствия, не содержат в себе ничего побуждающего к действию, наоборот, ощущения неудовольствия обладают этим свойством в высокой степени. Они побуждают к изменению, к совершению движения, и поэтому мы рассматриваем неудовольствие как повышение энергии, а удовольствие — как понижение ее. Если мы назовем то, что сознается как удовольствие и неудовольствие, количественно-качественно “иным” в потоке душевной жизни, то возникает вопрос: может ли это "иное" быть осознанным в том месте, где оно находится, или оно должно быть доведено до системы воспринятого сознательного (W)?
Клинический опыт решает в пользу последнего предположения. Он показывает, что это “иное” проявляется как вытесненное побуждение. Оно может развить движущую силу без того, чтобы Я заметило какое-либо принуждение. Лишь сопротивление принуждению и задержка устраняющей реакции приводит к осознанию этого “иного” как неудовольствия. Подобно напряжению по-требностей может быть бессознательной также и боль, которая представляет собою нечто среднее между внешним и внутренним восприятием и носит характер внутреннего восприятия даже в том случае, когда причины ее лежат во внешнем мире. Поэтому остается верным, что ощущения и чувства также становятся сознательными лишь благодаря соприкосновению с системой восприятия (W), если же путь к ней прегражден, они не осуществляются в виде ощущений, хотя соответствующее им “иное” в потоке возбуждений остается тем же. Сокращенно, но не совсем правильно мы говорим тогда о бессознательных ощущениях, придерживаясь аналогии с бессознательными представлениями, хотя эта аналогия и недостаточно оправдана. Разница заключается в том, что для приведения в сознание бессознательного представления необходимо создать сперва посредствующие звенья, в то время как для ощущений, притекающих в сознание непосредственно, такая необходимость отпадает. Другими словами, разница между Bw и Vbw для ощущений не имеет смысла, так как vbw здесь исключается: ощущения либо сознательны, либо бессознательна Даже в том случае, когда ощущения связываются с словесными представлениями, их осознание не обусловлено последними: oни становятся сознательными непосредственно.
Роль представлений слов становится теперь совершенно ясной. Через их посредство внутренние процессы мысли становятся восприятиями. Таким образом, как бы подтверждается положение: всякое значение происходит из внешнего восприятия. При осознании (Oberbesetzung) мышления мысли действительно вой принимаются как бы извне и потому считаются истинными. |
Разъяснив взаимоотношение внешних и внутренних восприятий и поверхностной системы воспринятого сознательного (W-Bw) мы можем приступить к построению нашего представления о Мы видим его исходящим из системы восприятия (W), как своего ядра-центра, и в первую очередь охватывающим Vbw, которое соприкасается со следами воспоминаний. Но, как мы уже видели, Я тоже бывает бессознательным.
Я полагаю, что здесь было бы очень целесообразно последовать предложению одного автора, который из личных соображений напрасно старается уверить, что ничего общего с высокой и строгой наукой не имеет. Я говорю о G. Groddeck'e [Groddeck G. Das Buch vom Es. International. Psychoanalitische Verlag, 1923], неустанно повторяющем, что то, что мы называем своим Я, в жизни прояляется преимущественно пассивно, что в нас, по его выражение “живут” неизвестные и неподвластные нам силы. Все мы испытывали такие впечатления, хотя бы они и не овладевали нами настолько, чтобы исключить все остальное, и я открыто заявляю, что взглядам Groddeck'a следует отвести надлежащее место в науке Я предлагаю считаться с этими взглядами и назвать сущность, исходящую из системы W и пребывающую вначале предсознательной, именем Я, а те другие области психического, в которые эта сущность проникает и которые являются бессознательными, обозначить, по примеру Groddeck'a [Сам Groddeck последовал, вероятно, примеру Ницше, который чаете пользовался этим грамматическим термином для выражения безличного *\ так сказать, природно-необходимого в нашем существе], словом Оно.
Мы скоро увидим, можно ли извлечь из такого понимания какую-либо пользу для описания и уяснения. Согласно предлагаемой теории, индивидуум представляется нам как непознанное - сознательное Оно, которое поверхностно охвачено Я, возникшем как ядро из системы W. При желании дать графическое изображение можно прибавить, что Я не целиком охватывает Оно, а покрывает его лишь постольку, поскольку система W образует его поверхность, т.е, расположено по отношению к нему примерно так, как зародышевый кружок расположен в яйце. Я и Оно не разделены резкой границей, и вместе с последним Я разливается книзу.
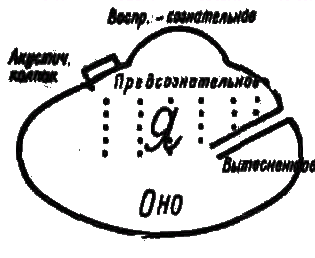
Однако вытесненное также сливается с Оно и есть только часть его. Вытесненное благодаря сопротивлениям вытеснения резко обособлено только от Я; с помощью Оно ему открывается возможность связаться с Я. Ясно, следовательно, что почти все разграничения, которые мы старались описать на основании данных патологии, относятся только к единственно известным нам поверхностным слоям душевного аппарата. Для изображения этих отношений можно было бы набросать рисунок, контуры которого служат лишь для наглядности и не претендуют на какое-либо истолкование. Следует, пожалуй, прибавить, что Я, по свидетельству анатомии мозга, имеет "слуховой колпак" только на одной стороне. Он надет на него как бы набекрень.
Нетрудно убедиться в том, что Я есть только измененная под прямым влиянием внешнего мира и при посредстве W—Bw часть Оно, своего рода продолжение дифференциации поверхностного слоя. Я старается также содействовать влиянию внешнего мира на Оно и осуществлению тенденций этого мира, оно стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в Оно, принципом реальности. Восприятие имеет для Я такое же значение, как влечение для Оно. Я олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью в противоположность к Оно, содержащему страсти. Все это соответствует общеизвестным и популярным разграничениям, однако может считаться верным только для некоторого среднего, идеального случая.
Большое функциональное значение Я выражается в том, что в нормальных условиях ему предоставлена власть над побуждением к движению. По отношению к Оно Я подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами, Я же силами заимствованными. Это сравнение может быть продолжено. Как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и Я превращает обыкновенно волю Оно в действие, как будто б это было его собственной волей.
Я складывается и обособляется от Оно, по-видимому, не только под влиянием системы W, но под действием также другого момента. Собственное тело, и прежде всего поверхность его, представляет собою место, от которого могут исходить одновременно как внешние, так и внутренние восприятия. Путем зрения тело воспринимается как другой объект, но осязанию оно дает двоякого рода ощущения, одни из которых могут быть очень похожими на внутреннее восприятие. В психофизиологии подробно описывалось, каким образом собственное тело обособляется из мира восприятий. Чувство боли, по-видимому, также играет при этом некоторую роль, а способ, каким при мучительных болезнях человек получает новое знание о своих органах, является может быть, типичным способом того, как вообще складывается представление своем теле.
Я прежде всего телесно, оно не только поверхностное существо, но даже является проекцией некоторой поверхности. Если искать анатомическую аналогию, его скорее всего можно уподобить “мозговому человечку” анатомов, который находится в мозговой коре как бы вниз головой, простирает пятки вверх, глядит назад и управляет, как известно, слева речевой зоной.
Отношение Я к сознанию обсуждалось часто, однако здесь необходимо вновь описать некоторые важные факты. Мы привыкли всюду привносить социальную или этическую оценку, и поэтому нас не удивляет, что игра низших страстей происходит в подсознательном, но мы заранее уверены в том, что душевные функции тем легче доходят до сознания, чем выше указанная их оценка. Психоаналитический опыт не оправдывает, однако, наших ожидании. С одной стороны, мы имеем доказательства тому, что да тонкая и трудная интеллектуальная работа, которая обычно требует напряженного размышления, может быть совершена npедсознательно, не доходя до сознания. Такие случаи совершенно бесспорны, они происходят, например, в состоянии сна и выражаются в том, что человек непосредственно после пробуждения находит разрешение трудной математической или иной задач над которой он бился безрезультатно накануне [Таков факт еще совсем недавно был сообщен мне как возражение против моего описания “работы сновидения”].
Однако гораздо большее недоумение вызывает знакомство с другим фактом. Из наших анализов мы узнаем, что существуют люди, у которых самокритика и совесть, т.е. бесспорно высокоценные душевные проявления, оказываются бессознательными и, оставаясь таковыми, обусловливают важнейшие поступки; то обстоятельство, что сопротивление в анализе остается бессознательным, не является, следовательно, единственной ситуацией в этом роде. Еще более смущает нас новое наблюдение, приводящее к необходимости, несмотря на самую тщательную критику, считаться с бессознательным чувством вины, факт, который задает новые загадки, в особенности если мы все больше и больше приходим к убеждению, что бессознательное чувство вины играет в большинстве неврозов экономически решающую роль и создает сильнейшее препятствие выздоровлению. Возвращаясь к нашей с оценочной шкале, мы должны сказать: не только наиболее глубокое но и наиболее высокое в Я может быть бессознательным. Таким образом, нам как бы демонстрируется то, что раньше было сказано о сознательном Я, а именно, что оно прежде всего Я-тело.
III
Я И СВЕРХ-Я (ИДЕАЛЬНОЕ Я)
Если бы Я было только частью Оно, определяемой влиянием системы восприятия, только представителем реального внешнего мира в душевной области, все было бы просто. Однако сюда присоединяется еще нечто.
В других местах уже были разъяснены мотивы, побудившие нас предположить существование некоторой инстанции в Я, дифференциацию внутри Я, которую можно назвать идеалом Я или сверх-Я [Zur Einfurung des Narzismus, Massenpsychologie und Ich-AnaIuse]. Эти мотивы вполне правомерны [Ошибочным и нуждающимся в исправлении может показаться только обстоятельство, что я приписал этому сверх-Я функцию контроля реальностью. Если бы испытание реальностью оставалось собственной задачей Я, это совершенно соответствовало бы отношениям его к миру восприятий. Также и более ранние недостаточно определенные замечания о сердцевине Я должны теперь найти правильное выражение в том смысле, что только система восприятия сознания может быть признана сердцевиной Я]. То, что эта часть Я не так прочно связана с сознанием, является неожиданностью, требующей разъяснения.
Нам придется начать несколько издалека. Нам удалось осветить мучительное страдание меланхолика предположением, что в Я восстановлен утерянный объект, т. е. что произошла замена привязанности к объекту (Objectbesetzung) отождествлением [Trauer und Melancholic].
В то время, однако, мы еще не уяснили себе всего значения этого процесса и не знали, насколько он прочен и часто повторяется. С тех пор мы говорим: такая замена играет большую роль в образовании Я, а также имеет существенное значение в выработке того, что мы называем своим характером.
Первоначально, в примитивной оральной (ротовой) фазе индивида трудно отличить обладание объектом от отождествления. Позднее можно предположить, что желание обладать объектом исходит из Оно, которое ощущает эротическое стремление как потребность. Вначале еще хилое Я получает от обладания объектом знание, удовлетворяется им или старается устранить его путем вытеснения [Интересною параллелью замены выбора объекта отождествлением жит вера первобытных народов в то, что свойства принятого в пищу Ж1 кого перейдут к лицу, вкушающему эту пищу, и основанные на этой вере запреты. Она же, как известно, служит также одним из оснований каннибализма и сказывается в целом ряде обычаев тотемного принятия пищи вплоть святого причастия. Следствия, которые здесь приписываются овладению ектом при помощи рта, действительно оказываются верными по отношен! позднейшему выбору сексуального объекта]
Если мы бываем обязаны или нам приходится отказаться от сексуального объекта, наступает нередко изменение Я, которое, как и в случае меланхолии, следует описать как водружение объекта в Я; ближайшие подробности этой замены нам еще неизвестны. Может быть, с помощью такой интроекции (вкладывания) которая является как бы регрессией к механизму оральной фаз Я облегчает или делает возможным отказ от объекта. Может быть, это отождествление есть вообще условие, при котором Оно отказывается от своих объектов. Во всяком случае процесс этот, особенно в ранних стадиях развития, наблюдается очень часто, он дает нам возможность построить теорию, что характер Я является осадком отвергнутых привязанностей к объекту, что он содержит историю этих избраний объекта. Поскольку характер личности отвергает или приемлет эти влияния из истории эротических избраний объекта, естественно наперед допустить целую скалу cпособности сопротивления. Мы думаем, что в чертах характера женщин, имевших большой любовный опыт, легко найти отзвук обладании объектом. Необходимо также принять в соображение случаи одновременной привязанности к объекту и отождествления, т. е. изменение характера прежде, чем произошел отказ объекта. При этом условии изменение характера может оказаться более длительным, чем отношение к объекту, и даже, в известном смысле, консервировать это отношение.
Другой подход к явлению показывает, что такое превращение эротического выбора объекта в изменение Я является также путем, на котором Я получает возможность овладеть Оно и углубить свои отношения к нему, правда, ценою далеко идущей терпимости к его переживаниям. Принимая черты объекта, Я как бы навязывает Оно самого себя в качестве любовного объекта, старается возместить ему его утрату, обращаясь к нему с такими i вами: “Смотри, ты ведь можешь любить и меня - я так похож на объект”.
Происходящее в этом случае превращение вожделения к объекту в вожделение к себе (нарцизм), очевидно, влечет за cобой отказ от сексуальных целей, известную десексуализацию, а стало быть, своего рода сублимирование. Более того, тут возникает вопрос, заслуживающий внимательного рассмотрения, а именно: есть ли это обычный путь к сублимированию, не происходит ли всякое сублимирование посредством вмешательства Я, которое сперва превращает сексуальное вожделение к объекту в нарцизм с тем, чтобы в дальнейшем поставить, может быть, этому влечению совсем иную цель [Большим резервуаром вожделений (libido) в смысле порождения нарцизма теперь, после того как мы отделим Я от Оно, мы должны признать Оно. Вожделение, направляющееся на Я вследствие описанного отождествления, составляет его вторичный нарцизм”] ?.
Не может ли это превращение влечь за собою в качестве следствия также и другие изменения судеб влечения, де может ли оно приводить, например, к расслоению различных слившихся друг с другом влечений? К этому вопросу мы еще вернемся впоследствии.
Хотя и отклоняемся от нашей цели, однако необходимо остановить на некоторое время наше внимание на отождествлениях объектов с Я. Если такие отождествления умножаются, становятся слишком многочисленными, чрезмерно сильными и несовместимыми друг с другом, то они очень легко могут привести к патологическому результату. Дело может дойти до расщепления Я, поскольку отдельные отождествления благодаря противоборству изолируются друг от друга, и загадка случаев так называемой “множественной личности”, может быть, заключается как раз в том, что отдельные отождествления попеременно овладевают сознанием. Даже если дело не заходит так далеко, создается все же почва для конфликтов между различными отождествлениями, на которые раздробляется Я, конфликтов, которые в конечном итоге не всегда могут быть названы патологическими.
Как бы ни окрепла в дальнейшем сопротивляемость характера в отношении влияния отвергнутых привязанностей к объекту, все же действие первых, имевших место в самом раннем возрасте отождествлений будет широким и устойчивым. Это обстоятельство заставляет нас вернуться назад к моменту возникновения идеала Я, ибо за последним скрывается первое и самое важное отождествление индивидуума, именно - отождествление с отцом в самый ранний период истории личности [Может быть, осторожнее было бы сказать “с родителями”, так как оценка отца и матери до точного понимания полового различия — отсутствие penis'a — бывает одинаковой. Из истории одной молодой девушки мне недавно случилось узнать, что, заметивши у себя отсутствие penis'a, она отрицала наличие этого органа вовсе не у всех женщин, а лишь у тех, которых она считала менее ценными. Ее мать поддерживала ее в этом убеждении. В целях простоты изложения я буду говорить лишь об отождествлении с отцом]
Такое отождествление, по-видимому, не есть следствие или результат привязанности к объекту; оно прямое, непосредственное и более раннее, чем какая бы то ни была привязанность к объекту. Однако избрания объекта, относящиеся к первому сексуальному периоду и касающиеся отца и матери, при нормальном течении обстоятельств в заключение приводят, по-видимому, к такому отождествлению и тем самым усиливают первичное отождествление.
Все же отношения эти так сложны, что возникает необходимость описать их подробнее. Существуют два момента, обуславливающие эту сложность: трехугольное расположение эдипова oтношения и изначальная бисексуальность индивида.
Упрощенный случай для ребенка мужского пола складывается следующим образом: очень рано ребенок обнаруживает по отношению к матери объектную привязанность, которая берет свое начало от материнской груди и служит образцовым примером выбора объекта по типу опоры (Aniehnungstypus); отцом мальчик овладевает с помощью отождествления. Оба отношения существуют некоторое время параллельно, пока усиление сексуальных влечений к матери и осознание того, что отец является помехой для таких влечений, не вызывает комплекса Эдипа [Massenpsychologie und Ich-Analyse, VII].
Отождествление с отцом отныне принимает враждебную окраску и превращается в желание устранить отца и заменять его собой для матери. С этих пор отношение к отцу амбивалентно [Заимствованный Фрейдом у Bleuler'a термин этот разъясняется следующим образом: Мы понимаем под амбивалентностью проявление противоположных нежных и враждебных чувств против одного и того же лица (Лекции по введению в психоанализ (русский перевод), т. II, с. 215)], создается впечатление, точно содержавшаяся с самого начала в отождествлении амбивалентность стала явной. “Амбивалентная установка” по отношению к отцу и лишь нежное объектное влечение к матери составляют для мальчика содержание простого, положительной комплекса Эдипа.
При разрушении комплекса Эдипа необходимо отказаться от объектной привязанности к матери. Вместо нее могут появиться две вещи: либо отождествление с матерью, либо усиление отождествления с отцом. Последнее мы обыкновенно рассматриваем как более нормальное, оно позволяет сохранить в известной мере нежное отношение к матери. Благодаря исчезновению комплекса Эдипа мужественность характера мальчика, таким образом, укрепилась бы. Совершенно аналогичным образом “эдиповская установка” маленькой девочки может вылиться в усиление ее отождествления с матерью (или в появление такового), упрочивавшего женственный характер ребенка.
Эти отождествления не соответствуют нашему ожиданию, так как они не вводят отвергнутый объект в Я; однако и такой исход возможен, причем у девочек его наблюдать легче, чем у мальчиков. В анализе очень часто приходится сталкиваться с тем, что маленькая девочка, после того как ей пришлось отказаться от отца как любовного объекта, проявляет мужественность и отождествляет себя не с матерью, а с отцом, т. е. с утерянным объектом. Ясно, что при этом все зависит от того, достаточно ли сильны мужские задатки, в чем бы они ни состояли.
Таким образом, переход эдиповской ситуации в отождествление с отцом или матерью зависит у обоих полов, по-видимому, от относительной силы задатков того или другого пола. Это один способ, каким бисексуальность вмешивается в судьбу эдипова комплекса. Другой способ еще более важен. В самом деле, получается впечатление, что простой эдипов комплекс вообще не есть наиболее частый случай, а соответствует некоторому упрощению или схематизации, которая практически осуществляется, правда, достаточно часто. Более подробное исследование вскрывает в большинстве случаев более полный эдипов комплекс, который бывает двояким, положительным и отрицательным, в зависимости от первоначальной бисексуальности ребенка, т. е. мальчик становится не только в амбивалентное отношение к отцу и останавливает свой нежный объектный выбор на матери, но он одновременно ведет себя как девочка, проявляет нежное женское отношение к отцу и соответствующее ревниво-враждебное к матери. Это вторжение бисексуальности очень осложняет анализ отношений между первичными избраниями объекта и отождествлениями и делает чрезвычайно затруднительным понятное их описание. Возможно, что установленная в отношении к родителям амбивалентность должна быть целиком отнесена на счет бисексуальности, а не возникает, как я утверждал это выше, из отождествления вследствие соперничества.
Я полагаю, что мы не ошибемся, если допустим существование полного эдипова комплекса у всех вообще людей, а у невротиков в особенности. Аналитический опыт обнаруживает затем, что в известных случаях та или другая составная часть этого комплекса исчезает, оставляя лишь едва заметный след, так что создается ряд, на одном конце которого стоит нормальный, положительный, на другом конце — обратный, отрицательный комплекс, в то время как средние звенья изображают полную форму с неодинаковым участием обоих компонентов. При исчезновении эдипова комплекса четыре содержащихся в нем влечения сочетаются таким образом, что из них получается одно отождествление с отцом и одно с матерью, причем отождествление с отцом удерживает материнский объект положительного комплекса и одновременно заменяет отцовский объект обратного комплекса; аналогичные явления имеют место при отождествлении с матерью. В различной силе выражения обоих отождествлений отразится неравенство обоих половых задатков.
Таким образом, можно сделать грубое допущение, что в результате сексуальной фазы, характеризуемой господством эдипова комплекса, в Я отлагается осадок, состоящий в образовании обоих названных, как-то согласованных друг с другом отождествлений. Это изменение Я удерживает особое положение; оно противостоит прочему содержанию Я в качестве идеального Я или сверх Я.
Сверх-Я не является, однако, простым осадком от первых избраний объекта, совершаемых Оно, ему присуще также значение энергичного реактивного образования, направленного против них.
Его отношение к Я не исчерпывается требованием “ты должен быть таким же (как отец)”, оно выражает также запрет: “Таким (как отец) ты не смеешь быть, т. е. не смеешь делать все то, что делает отец; некоторые поступки остаются его исключительным правом”. Это двойное лицо идеального Я обусловлено тем том, что сверх-Я стремилось вытеснить эдипов комплекс, более того — могло возникнуть лишь благодаря этому резкому изменению. Вытеснение эдипова комплекса было, очевидно, нелегкой, задачей. Так как родители, особенно отец, сознаются как помеха к осуществлению эдиповых влечений, то инфантильное Я накопляло силы для осуществления этого вытеснения путем создания в себе самом того же самого препятствия. Эти силы заимствовались им в известной мере у отца, и такое заимствование является актом, в высшей степени чреватым последствиями. Сверх-Я сохранит характер отца, и чем сильнее был эдипов комплекс, чем стремительнее было его вытеснение (под влиянием авторитета, религии, образования и чтения), тем строже впоследствии сверх-Я будет властвовать над Я как совесть, а может быть, и как бессознательное чувство вины. Откуда берется сила для такого властвования, откуда принудительный характер, принимающий форму категорического императива, — по этому поводу я еще выскажу в дальнейшем свои соображения.
Сосредоточив еще раз внимание на только что описанном возникновении сверх-Я, мы увидим в нем результат двух чрезвычайно но важных биологических факторов: продолжительной детской беспомощности и зависимости человека и наличия у него эдипова комплекса, который был сведен нами даже к перерыву развития вожделения (libido), производимому латентным периодом, т.е. к двукратному началу половой жизни. Это последнее обстоятельство является, по-видимому, специфически человеческой особенностью и составляет, согласно психоаналитической гипотезе, следствие того толчка к культурному развитию, который был дан ледниковым периодом. Таким образом, отделение сверх-Я от Я не случайно, оно отражает важнейшие черты как индивидуального, так и родового развития и даже больше: сообщая родительскому влиянию длительное выражение, оно увековечивает существование моментов, которым обязано своим происхождением.
Несчетное число раз психоанализ упрекали в том, что он не интересуется высшим, моральным, сверхличным в человеке. Этот упрек несправедлив вдвойне — исторически и методологически. Исторически — потому что психоанализ с самого начала приписывал моральным и эстетическим тенденциям в Я побуждение к вытеснению, методологически — вследствие нежелания понять, психоаналитическое исследование не могло выступить, подобно философской системе, с законченной постройкой своих положений но должно было шаг за шагом добираться до понимания сложной душевной жизни путем аналитического расчленения как нормальных, так и ненормальных явлений. Нам не было надобности дрожать за сохранение высшего в человеке, коль скоро мы поставили себе задачей заниматься изучением вытесненного в душевной жизни. Теперь, когда мы отваживаемся подойти, наконец, к анализу Я, мы так можем ответить всем, кто, будучи потрясен в своем нравственном сознании, твердил, что должно же быть высшее в человеке: “Оно несомненно должно быть, -но идеальное Я или сверх-Я, выражение нашего отношения к родителям, как раз и является высшим существом. Будучи маленькими детьми, мы знали этих высших существ, удивлялись им и испытывали страх перед ними, впоследствии мы приняли их в себя самих”.
Идеальное Я является, таким образом, наследником эдипова комплекса и, следовательно, выражением самых мощных движений Оно и самых важных libid-ных судеб его. Выставив этот идеал, Я сумело овладеть эдиповым комплексом и одновременно подчиниться Оно. В то время как Я является преимущественно представителем внешнего мира, реальности, сверх-Я выступает навстречу ему как адвокат внутреннего мира или Оно. И мы теперь подготовлены к тому, что конфликты между Я и идеалом Я в конечном счете отразят противоречия реального и психического, внешнего и внутреннего миров.
Все, что биология и судьбы человеческого рода создали в Оно и закрепили в нем, — все это приемлется в Я в форме образования идеала и снова индивидуально переживается им. Вследствие истории своего образования идеальное Я имеет теснейшую связь с филогенетическим достоянием, архаическим наследием индивидуума. То, что в индивидуальной душевной жизни принадлежало глубочайшим слоям, благодаря образованию идеального Я, становится самым высоким в смысле наших оценок достоянием человеческой души. Однако тщетной была бы попытка локализовать идеальное Я, хотя бы только по примеру Я, или подогнать его под одно из подобий, при помощи которых мы пытались наглядно изобразить отношение Я и Оно.
Легко показать, что идеальное Я соответствует всем требованиям, предъявляемым к высшему началу в человеке. В качестве заместителя страстного влечения к отцу оно содержит в себе зерно, из которого выросли все религии. Суждение о собственной недостаточности при сравнении Я со своим идеалом вызывает то смиренное религиозное ощущение, на которое опирается страстно верующий. В дальнейшем ходе развития роль отца переходит к учителям и авторитетам; их заповеди и запреты сохраняют свою силу в идеальном Я, осуществляя в качестве совести моральную цензуру. Несогласие между требованиями совести и действиями Я ощущается как чувство вины. Социальные чувства покоятся на отождествлении с другими людьми на основе одинакового идеала Я.
Религия, мораль и социальное чувство — это главное содержание высшего человека [Наука и искусство здесь оставлены в стороне] - первоначально составляли одно. Согласно гипотезе, высказанной мной в книге "Totem und Таbu они вырабатывались филогенетически на отцовском комплексе; религия и нравственное ограничение — через подавление подлинного комплекса Эдипа, социальные чувства — вследствие необходимости преодолеть излишнее соперничество между членами молодого поколения. Во всех этих нравственных достижениях мужской пол, по-видимому, шел впереди; скрещивающаяся наследственность передала это достояние также и женщинам. Социальные чувства еще поныне возникают у отдельного лица как надстройка над завистливостью и соперничеством по отношении” братьям и сестрам. Так как враждебность не может быть умиротворена, то происходит отождествление с прежним соперником. Наблюдения над кроткими гомосексуалистами укрепляет предположение, что и это отождествление является заменой нежного избрания объекта, кладущего конец агрессивно-враждебному oтношению [Сравн.: Massenpsychologie und Ich-Analuse. Ober einige neurotia Mechanism bei Eifersucht. Paranoia und Homosexualital.]
С упоминанием филогенезиса всплывают, однако, новые проблемы, от разрешения которых хотелось бы скромно уклониться. Но ничего не поделаешь, следует отважиться на попытку, даже если боишься, что она вскроет недостаточность всех твоих усилий. Вопрос гласит: кто в свое время выработал на почве отцовского комплекса религию и мораль — Я дикаря или его Оно? Если это было его Я, почему мы не говорим тогда просто о наследственности в Я? Если же Оно, то насколько это вяжется с характером Оно? Но, может быть, мы не вправе распространять дифференциацию Я, сверх-Я и Оно на столь ранние времена? Или должны честно признаться в том, что вся .концепция происходящего в Я ничего не дает для понимания филогенезиса и не может быть к нему применена?
Ответим прежде всего на то, что легче всего поддается ответу. Дифференциацию Я и Оно мы должны признать не только в первобытном человеке, но и в гораздо более простых существах, так как она является необходимым выражением воздействий внешнего мира. Сверх-Я мы выводим из тех самых переживаний, которые вели к тотемизму. Вопрос, принадлежал ли этот опыт и достижения Я или Оно, скоро оказывается тождественным. Простейшее соображение подсказывает нам, что Оно не в состоят пережить или испытать внешнюю судьбу иначе, как посредством Я, которое замещает для него внешний мир. Однако все же нельзя говорить о прямой наследственности к Я. Здесь раскрываем пропасть между реальным индивидуумом и понятием рода. Нельзя также понимать разницу между Я и Оно слишком грубо, нельзя забывать, что Я есть особая дифференцированная часть Оно: Переживания Я вначале, по-видимому, пропадают для наследстве ности; если же они обладают достаточной силой и часто повторяются у многих следующих в порядке рода друг за другом индивидуумов, то превращаются, так сказать, в переживания Оно, впечатления которого удерживаются с помощью наследственности. Так, наследственное Оно таит в себе остатки бесчисленных Я-существований, и если Я черпает свое сверх-Я из Оно, то оно, может быть, лишь вновь выводит наружу более старые образования Я,. воскрешает их к жизни.
История возникновения сверх-Я делает понятным, что ранние конфликты Я с объектными привязанностями Оно могут продолжаться в конфликтах с наследником последних сверх-Я. Если Я плохо удалось подавление комплекса Эдипа, то его энергия обладания, происходящая из Оно, вновь проявится в реактивном образовании идеала Я. Обширная связь этого идеала с бессознательными влечениями объясняет загадку, почему самый идеал может оставаться в значительной степени бессознательным и недоступным для Я. Борьба, кипевшая в более глубоких слоях, оказалась не доведенной до конца вследствие быстроты сублимирования и отождествления и продолжается, как на картине Каульбаха “Битва гуннов”, в более высокой области.
IV
ДВА РОДА ВЛЕЧЕНИЙ
Если расчленение душевного существа на Оно, Я и сверх-Я можно рассматривать как прогресс нашего знания, то оно должно также, как мы уже сказали, оказаться средством к более глубокому пониманию и лучшему описанию динамических отношений в душевной жизни. Мы уже уяснили себе, что Я находится под особым влиянием восприятия: выражаясь грубо, можно сказать, что восприятия имеют для Я такое же значение, как влечения для Оно. При этом, однако, и Я подлежит воздействию влечений, подобно Оно, так как Я является в сущности только модифицированной частью последнего.
Недавно я изложил свой взгляд на влечения в “Tenseits des Lustprinzips”; этого взгляда я буду придерживаться и здесь, положив его в основу дальнейших рассуждений. Я полагаю, что нужно различать два рода влечений, причем первый род — сексуальные влечения, или эрос, — значительно заметнее и более доступен изучению. Он охватывает не только подлинное незадержанное половое влечение и производные от него целесообразно подавленные, сублимированные влечения, но также инстинкт самосохранения, который мы должны приписать Я и который мы в начале аналитической работы вполне основательно противопоставили сексуальным влечениям к объектам. Вскрыть второй род влечений стоило нам немало труда; в заключение мы пришли к убеждению, что типичным примером их следует считать садизм. Основываясь на теоретических, .подкрепляемых биологией соображениях, выставим гипотезу о влечении к смерти, задачей которого является возвращение всех живых организмов в безжизненное состояние, в то время как эрос, все шире охватывая раздробленную на части жизненную субстанцию, стремится усложнить жизнь и при этом, конечно, coxpaнить ее. Оба влечения носят в строжайшем смысле консервативный характер, поскольку оба они стремятся восстановить состояние, нарушенное возникновением жизни. Таким образом, возникновение жизни является, с этой точки зрения, причиной дальнейшего продолжения жизни, но одновременно также причиной стремления к смерти, а сама жизнь — борьбой и компромиссом между указанными двумя стремлениями. Вопрос о происхождении жизни сохраняет в этом смысле космологически характер, на вопрос же о смысле и цели жизни дается дуалистический ответ.
Каждый из этих двух родов влечений сопровождается особым физиологическим процессом (созидание и распад), в каждом кусочке живой субстанции действуют оба рода влечений, но они смешаны в неравных дозах, так что живая субстанция является по преимуществу представительницей эроса.
Каким, образом влечения того и другого рода соединяются друг с другом, смешиваются и сплавляются — остается пока совершенно непредставимым; но это смешение происходит постоянно и в большом масштабе, без такой гипотезы нам по ходу наших мыслей не обойтись. Вследствие соединения одноклеточных элементарных организмов в многоклеточные живые существа удается нейтрализовать влечение к смерти отдельной клеточки и с помощью особого органа отвлечь разрушительные побуждения во внешний мир. Этот орган — мускулатура, и влечение к смерти проявляется, таким образом, вероятно, впрочем лишь частично, как инстинкт разрушения, направленный против внешнего мира и других живых существ.
Коль скоро мы допустим представление о смешении этих двух родов влечений, нам открывается также возможность более или менее совершенного разъединения их. В таком случае в садическом элементе полового влечения мы имели бы классический пример целесообразного смешения влечений, а в чистом садизме, как извращении, — образец разъединения, не доведенного, впрочем, до конца. Здесь перед нами открывается обширная область фактов, которые никогда еще не рассматривались в этом свете. Мы узнаем, что в целях отвлечения вовне инстинкт разрушения систематически становится на службу эросу; мы догадываемся, что эпилептический припадок является следствием и симптомом разъединения влечений и начинаем понимать, что наступающее в результате некоторых тяжелых неврозов разъединение влечений и появление влечения к смерти заслуживает особого внимания. Если бы мы не боялись поспешных обобщений, то склонны были бы предположить, что сущность регресса libido, например от генитальной к садически-анальной фазе, основывается на разъединении влечений и, наоборот, прогресс от первоначальной к окончательной генитальной фазе обусловлен умножением эротических компонентов. В связи с этим возникает вопрос, не в праве ли мы рассматривать постоянную амбивалентность, которую мы так часто находим усилившейся в случаях конституционного предрасположения к неврозу, тоже как результат разъединения; впрочем, амбивалентность есть столь раннее переживание, что ее, скорее, нужно оценивать как не доведенное до конца смешение влечений.
Нас, естественно, должен заинтересовать вопрос, нельзя ли отыскать проливающие свет отношения между допущенными нами образованиями Я, сверх-Я и Оно, с одной стороны, и двумя родами влечений — с другой, и далее: в состоянии ли мы отвести управляющему психическими процессами принципу удовольствия строго определенное положение по отношению к двум родам влечения и дифференцированным выше областям душевной жизни. Прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, нам необходимо устранить одно сомнение, возникающее по поводу самой постановки проблемы. Хотя принцип удовольствия не вызывает сомнений и расчленение Я основывается на клинических наблюдениях, однако различение двух родов влечений кажется недостаточно доказанным, и возможно, что факты клинического анализа опровергают его.
Один такой факт как будто существует. Противоположностью двух родов влечений мы можем считать полярность любви и ненависти. Относительно представителя эроса мы не затрудняемся и, наоборот, бываем очень довольны, если в инстинкте разрушения, которому ненависть указывает путь, нам удается обнаружить заместителя, с трудом поддающегося пониманию, влечения к смерти. Однако клиническое наблюдение учит нас, что ненависть является не только неожиданно постоянным спутником любви (амбивалентность), не только часто предшествует последней в человеческих отношениях, но что в известных случаях ненависть также превращается в любовь, а любовь — в ненависть. Если это превращение представляет собой нечто большее, чем простое следование во времени, т. е. смену одного состояния другим, тогда, очевидно, нет данных для проведения столь капитального различия между эротическими влечениями и влечениями к смерти, различия, предполагающего совершенно противоположные физиологические процессы. <...>
Мы вели рассуждение таким образом, как если бы в душевной жизни — безразлично в Я или в Оно — существовала способная перемещаться энергия, которая, будучи сама по себе индифферентной, может присоединяться к качественно дифференцированным эротической или разрушительной тенденциям и повышать их общее напряжение. <...>
Кажется допустимым, что эта действующая несомненно в Я и в Оно, способная перемещаться, индифферентная энергия происходит из нарцистического запаса libido, т.е. является десексуализированным эросом. Эротические влечения вообще представляются нам более пластичными, гибкими и более способными к перемещению, чем влечения к разрушению. Если так, то без натяжки можно предположить, что это способное перемещаться libido работает в интересах принципа удовольствия, действуя уменьшению перегрузки и облегчая разряд. При этом нельзя отрицать известного безразличия того, по какому пути пойдет разряд, если только он вообще происходит. Мы знаем, что эта черта характерна для процессов стремления к обладанию, свойственных Оно. Она встречается при эротических стремлениях к обладанию, причем развивается совершенное безразличие по отношению к объекту, в особенности при перенесениях в анализе, которые осуществляются на любые лица. Ранк недавно привел прекрасные примеры того, как невротические акты мести направляются не на надлежащих лиц.
Наблюдая такое поведение бессознательного, невольно вспоминаешь смешной анекдот о том, как нужно присудить к повешению одного из трех деревенских портных на том основании, что единственный деревенский кузнец совершил преступление, заслуживающее смертной казни. Наказание должно последовать, хотя бы оно постигло и невиновного. Эту самую неряшливость мы впервые заметили при искажениях первоначального явления в работе сновидения. Как там объекты, так в нашем случае пути отвлечения отодвигаются на второй план. Аналогичным образом дело обстоит с Я, разница лишь в большей точности выбора объекта, а также пути отвлечения.
Если эта энергия перемещения есть десексуализированное libido, то ее можно назвать также сублимированной, ибо служа восстановлению единства, которым — или стремлением к которому — отличается Я, она все же всегда направляется на осуществление главной цели эроса, заключающейся в соединении и связывании. Если мы подведем под эти перемещения также мыслительные процессы в широком смысле слова, то и работа мышления окажется подчиненной силе сублимированного эротического влечения.
Первоначально все libido сосредоточено в Оно, в то время как Я находится еще в состоянии развития или еще немощно. Оно вкладывает часть этого libido в эротические стремления к обладанию объектом, после чего окрепшее Я пытается овладеть этим объектным libido и навязать Оно в качестве любовного объекта себя самое. Нарцизм Я, таким образом, является вторичным, отнятым у объектов.
Все снова и снова мы убеждаемся в том, что влечения, которые мы можем проследить, оказываются восходящими от эроса. Не будь высказанных нами в “lenseits des Lustprinzips" соображений и не будь, кроме того, садических дополнений к эросу, мы вряд ли могли бы держаться дуалистического воззрения
Но так как мы вынуждены держаться его, то нам приходится создать впечатление, что влечения к смерти большей частью безмолвствуют, и что весь шум жизни исходит преимущественно от эроса [Согласно нашему пониманию, направляемый на внешний мир инстинкт разрушения отвращен от собственного Я также с помощью эроса]. <...>
V
ЗАВИСИМОСТИ Я
Мы неоднократно повторяли, что Я в значительной части образуется из отождествлений, приходящих на смену оставленным стремлениям к обладанию Оно, что первые из этих отождествлений неизменно ведут себя как особая инстанция в Я, противопоставляют себя Я в качестве сверх-Я, в то время как впоследствии окрепшее Я в состоянии держать себя более стойко по отношению к таким воздействиям отождествлений. Своим особым положением в Я или по отношению к Я сверх-Я обязано моменту, который должен быть оценен с двух сторон: во-первых, он является первым отождествлением, которое произошло в то время, когда Я было еще немощно, и, во-вторых, он — наследник комплекса Эдипа и, следовательно, ввел в Я весьма важные объекты. Этот момент относится к позднейшим изменениям Я. пожалуй так же, как первоначальная сексуальная фаза детства к позднейшей сексуальной жизни после половой зрелости. Хотя сверх-Я и подвержено всем позднейшим воздействиям, оно все же в течение всей жизни сохраняет то свойство, которое было ему сообщено благодаря его возникновению из отцовского комплекса, а именно способность противопоставлять себе Я и повелевать им. Сверх-Я — этот памятник былой слабости и зависимости Я — сохраняет свое господство также над зрелым Я. Как ребенок вынужден был слушаться своих родителей, так и Я подчиняется категорическому императиву своего сверх-Я.
Еще большее значение для сверх-Я имеет то обстоятельство, что оно происходит от первых объектных привязанностей Оно, т. е. от комплекса Эдипа. Это происхождение, как мы уже указывали, ставит его в связь с филогенетическим наследием Оно и делает его новым воплощением прежде сложившихся Я, которые оставили свой след в Оно. Тем самым сверх-Я тесно связывается с Оно и может быть представителем последнего по отношению к Я. Сверх-Я глубоко погружается в Оно и потому более удалено от сознания, чем Я [Можно сказать: и психоаналитическое или метапсихологическое Я стоит на голове, подобно анатомическому Я, т. е. .мозговому человечку].
<...> Наши представления о Я начинают проясняться, его различные соотношения становятся все отчетливее. Мы видим теперь Я во всей его силе и в его слабостях. Оно наделено важными функциями; благодаря своей связи с системой восприятия оно располагает душевные явления- во времени и подвергает их контролю реальности. Обращаясь к процессам мышления, оно научается задерживать моторные разряды и приобретает господство над побуждениями к движению. Это господство, правда, не столько фактическое, сколько формальное; по отношению к 'поступкам Я как бы занимает положение конституционного монарха, без санкции которого не может быть введен ни один закон но который должен весьма основательно взвесить обстоятельства, прежде чем наложить свое veto на тот или иной законопроект парламента. Всякий внешний жизненный опыт обогащает Я; но Оно является для Я другим внешним миром, который Я также стремится подчинить себе. Я отнимает у Оно libido и превращает объектные устремления Оно в образования Я. С помощью сверх-Я Я черпает еще темным для нас способом из накопленного в Оно опыта прошлого.
Существует два пути, при помощи которых содержание Оно может вторгнуться в Я. Один из них прямой, другой ведет через идеальное Я, и избрание душевным процессом того или иного пути может оказаться для него решающим обстоятельством. Развитие Я совершается от восприятия влечений к господству над влечениями, от послушания влечениям к обузданию их. В этом процессе важную роль играет идеальное Я, которое является ведь в известной степени реактивным образованием против различных влечений Оно. Психоанализ есть орудие, которое дает Я возможность постепенно овладеть Оно. Но, с другой стороны, мы видим, как то же самое Я является несчастным существом, которое служит трем господам и вследствие этого подвержено троякой угрозе: со стороны внешнего мира, со стороны вожделений Оно и со стороны строгости сверх-Я. Этим трем опасностям соответствует троякого рода страх, ибо страх есть выражение отступления. Как пограничное существо, Я хочет быть посредником между миром и Оно, сделать Оно приемлемым для мира и посредством своих мышечных действий привести мир в соответствие с желанием Оно. Я ведет себя в сущности подобно врачу во время аналитического лечения, поскольку рекомендует Оно в качестве объекта вожделения (libido) самого себя со своим вниманием к реальному миру и хочет направить его libido на себя. Я не только помощник Оно, но также его верный слуга, старающийся заслужить расположение своего господина. Оно стремится, где только возможно, пребывать в согласии с Оно, окутывает бессознательные веления последнего своими предсказательными рационализациями, создает иллюзию послушания Оно требованиям реальности даже там, где Оно осталось непреклонным и неподатливым, затушевывает конфликты Оно с реальностью и, где возможно, также и со сверх-Я. Будучи расположено посредине между Оно и реальностью, Я слишком часто подвергается соблазну стать льстецом, оппортунистом и лжецом, подобно государственному деятелю, который, обладая здравым пониманием , действительно желает в то же время снискать себе благосклонность общественного мнения.
К двум родам влечении Я относится не беспристрастно. Совершая свои отождествления и сублимирование, Я помогает влеченным к смерти одержать верх над libido, но при этом оно само подвергается опасности стать объектом разрушительных влечений и погибнуть. Желая оказать помощь, оно вынуждено наполнить вожделениями себя самого, Я само становится таким образом представителем эроса, у него самого появляются желание жить и быть любимым.
Но так как его работа над сублимированном в результате приводит к разъединению влечений и освобождению агрессивности сверх-Я, то благодаря своей борьбе с libido Я подвергается опасности третирования и смерти. Когда Я страдает или даже погибает от агрессивности сверх-Я, то судьба его подобна судьбе протистов, которые погибают от своих собственных продуктов разложения. Таким продуктом разложения в экономическом смысле представляется нам действующая в сверх-Я мораль. Из всех зависимостей Я наибольший интерес, несомненно, представляет его зависимость от сверх-Я.
Я поистине есть настоящий очаг страха. Под влиянием угрозы со стороны троякой опасности Я развивает рефлекс бегства: оно укрывает свое собственное достояние от угрожающего восприятия или равнозначащего процесса в Оно и изживает его в виде страха. Эта примитивная реакция впоследствии сменяется созданием защитных приспособлений (механизм фобий). Чего страшится Я, подвергаясь опасности извне или со стороны Libido Оно, — определить невозможно; мы знаем, что это страх порабощения или уничтожения, но уловить это аналитически мы неспособны. Я просто слушается предостережения, исходящего от принципа удовольствия. Напротив, объяснить, что скрывается за страхом Я перед сверх-Я, за страхом совести, нетрудно. От высшего существа, превратившегося теперь в идеальное Я, некогда исходила угроза кастрации, и этот страх кастрации и есть, вероятно, ядро, вокруг которого впоследствии нарастает страх совести.
Громкое положение, гласящее: всякий страх есть в сущности страх смерти, едва ли имеет какой-нибудь смысл и во всяком случае не может быть доказано. Мне кажется, что мы поступим гораздо правильнее, если будем проводить различие между страхом смерти и боязнью объектов (реальности), а также невротической боязнью libido. Этот страх задает психоанализу тяжелую задачу, ибо смерть есть абстрактное понятие отрицательного содержания, для которого невозможно найти бессознательного соответствия. Механизм страха смерти мог бы состоять лишь в том, что Я слишком широко расходует запас своего нарцистического libido, т. е. оставляет само себя, как в случаях страха оставляет другой объект. Я полагаю, что страх смерти ощущается в области между Я и сверх-Я.
Нам известно появление страха смерти при двух условиях, которые, впрочем, совершенно аналогичны обычным условиям появления страха, а именно: страх представляет собой или реакцию на внешнюю опасность или внутренний процесс, например, при меланхолии. Невротический случай снова облегчит нам понимание реальности.
Страх смерти при меланхолии допускает только одно объяснение: Я отчаивается в себе, потому что чувствует как сверх-Я ненавидит и преследует его, вместо того чтобы любить. Таким образом, жить означает для Я то же самое, что быть любимым сверх-Я, которое и здесь выступает в качестве заместителя Оно. Сверх-Я исполняет ту же охранительную и спасительную функцию, какую сначала исполнял отец, а затем провидение или судьба. Но тот же самый вывод Я должно сделать и в том случае, когда оно находится перед лицом чрезмерной реальной oпасности, с которой оно не надеется справиться собственными силами. Оно чувствует себя покинутым всеми охраняющими его инстанциями и падает в объятия смерти. Это, впрочем, все та же ситуация, которая лежала в основе первого большого приступа страха в момент рождения и детского томительного страха быть отделенным от охраняющей матери.
Итак, на основании изложенного страх смерти, a paвно и страх совести может рассматриваться как видоизменение страха кастрации. Принимая во внимание большое значение чувства вины у невротиков, мы не можем не признать, что обычный невротический страх в тяжелых случаях усиливается благодаря развитию страха (кастрации, совести, смерти) между Я и сверх-Я.
Оно, к которому мы в заключение возвращаемся, лишено возможности выразить Я свою любовь или ненависть. Оно не в состоянии сказать, чего оно хочет; оно не выработало направленной в одну сторону воли. Эрос и влечение к смерти борются в нем; мы видим, какими средствами одни влечения защищаются от других. Можно было бы дело изобразить таким образом, что Оно находится под властью немых, но могущественных влечений к смерти, которые пребывают в покое и, следуя указаниям принципа удовольствия, хотят усмирить нарушителя покоя эроса, но мы опасаемся, что при этом будет недооценено значение эроса. |
|





